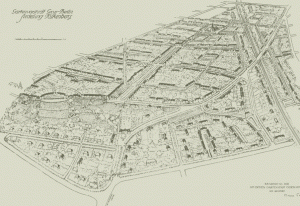
 Революция? — вполне: вступай, копи, строй вскладчину дом, и станешь в нём и съёмщиком, и совладельцем, товарищем. По сей день таково и самоназвание и самоощущение жителей; и на праздники их собирает старое, Таутом созданное, знамя.Знакомо? — определённо знакомо: кому из жилмассивов и ЖСК советских лет, кому из девиза, начертанного на постаменте Шульце-Делича, а иным из натурных наблюдений за окраинами Черняховска. Сюда с окраины Берлина словно переброшена многоцветная радуга.
Революция? — вполне: вступай, копи, строй вскладчину дом, и станешь в нём и съёмщиком, и совладельцем, товарищем. По сей день таково и самоназвание и самоощущение жителей; и на праздники их собирает старое, Таутом созданное, знамя.Знакомо? — определённо знакомо: кому из жилмассивов и ЖСК советских лет, кому из девиза, начертанного на постаменте Шульце-Делича, а иным из натурных наблюдений за окраинами Черняховска. Сюда с окраины Берлина словно переброшена многоцветная радуга.| В Берлине: город-сад «Соколиная гора» — «Коробка с красками» | В Черняховске: посёлок «Камсвикус» — «Пёстрый» ряд» |
| Гартенштадтвег №№15—99; Ам Фалькенберг №№118—120; Акациенгоф №№1—26 | ул.Элеваторная №№2—19, ул.Гагарина №№(38)40 |
| архитекторы Бруно Таут, Генрих Тессенов, садовый архитектор Людвиг Лессер | архитектор Ганс Шарун |
| 1913—15 гг. | 1921—24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 Военных разрушений в посёлке не было.Коммунальные жилищные управления ГДР не национализировали довоенные товарищества: средства на ремонт им не выделялись так же, как не выделялись они и прочему жилому фонду: жильцы сами заботились о своих домах — или не заботились. Одноквартирные дома сохранялись лучше, тогда как многоквартирные быстро пришли в упадок и грозили обрушением.Объединение Германии вернуло «Краски» под управление прежнего Товарищества, и уже с 1992 года началась подготовка к воссозданию домов. Время не ждало: строительные магазины несли бывшей ГДР всё разнообразие современных фабрикатов, и не один житель, привыкнув заботиться о себе сам, менял, им поддавшись, старые двери и рамы. Дома, между тем, нуждались в ремонте срочном, бережном и комплексном, с учётом всех особенностей первоначального их возведения — и как тут быть с возведёнными за предшествовавшие полвека самовольными верандами? Как объяснить их пагубу?Тогда — единственно «на пальцах».
Военных разрушений в посёлке не было.Коммунальные жилищные управления ГДР не национализировали довоенные товарищества: средства на ремонт им не выделялись так же, как не выделялись они и прочему жилому фонду: жильцы сами заботились о своих домах — или не заботились. Одноквартирные дома сохранялись лучше, тогда как многоквартирные быстро пришли в упадок и грозили обрушением.Объединение Германии вернуло «Краски» под управление прежнего Товарищества, и уже с 1992 года началась подготовка к воссозданию домов. Время не ждало: строительные магазины несли бывшей ГДР всё разнообразие современных фабрикатов, и не один житель, привыкнув заботиться о себе сам, менял, им поддавшись, старые двери и рамы. Дома, между тем, нуждались в ремонте срочном, бережном и комплексном, с учётом всех особенностей первоначального их возведения — и как тут быть с возведёнными за предшествовавшие полвека самовольными верандами? Как объяснить их пагубу?Тогда — единственно «на пальцах».
 Председателю товарищества, Германну и Бренне, архитектору, пришлось вновь и вновь разъяснять и уговаривать и убеждать и завоёвывать каждого жильца едва ли по-одиночке: оглядываясь на десятилетие санации, они в один голос сравнили это с «упражнением в искусственном дыхании утопающему». Помогли и воспоминания первопоселенцев о том, как жилось в тех радостных цветных домах; помогло возобновление товарищеской активности; сын самого Бруно Таута мог ещё поведать об истоках движения и намерениях зодчего, а само Товарищество, верное корням, считало заботу о возвращённых домах обязательством перед предками, те дома возводившими — но и при этом всём редкий жилец сохранял первоначальную уверенность в правильности избранного решения на какой-нибудь четвёртой недели жизни на стройплощадке, в которую превращался его дом.Легче стало, когда первый дом подошёл к сдаче, а после работы пошли блоками, целыми рядами типовых домов зараз.В общем и целом, любительский проект. Пробный, а оттого и дорогой: в среднем на квартиру уходило порядка 80 тысяч евро, а квартиры тут от 60 до 140 м2.Коммерчески такое вложение не оправдать, и повышением квартплат не окупить. Их и не повышали.Так ведь и жить здесь теперь любят!
Председателю товарищества, Германну и Бренне, архитектору, пришлось вновь и вновь разъяснять и уговаривать и убеждать и завоёвывать каждого жильца едва ли по-одиночке: оглядываясь на десятилетие санации, они в один голос сравнили это с «упражнением в искусственном дыхании утопающему». Помогли и воспоминания первопоселенцев о том, как жилось в тех радостных цветных домах; помогло возобновление товарищеской активности; сын самого Бруно Таута мог ещё поведать об истоках движения и намерениях зодчего, а само Товарищество, верное корням, считало заботу о возвращённых домах обязательством перед предками, те дома возводившими — но и при этом всём редкий жилец сохранял первоначальную уверенность в правильности избранного решения на какой-нибудь четвёртой недели жизни на стройплощадке, в которую превращался его дом.Легче стало, когда первый дом подошёл к сдаче, а после работы пошли блоками, целыми рядами типовых домов зараз.В общем и целом, любительский проект. Пробный, а оттого и дорогой: в среднем на квартиру уходило порядка 80 тысяч евро, а квартиры тут от 60 до 140 м2.Коммерчески такое вложение не оправдать, и повышением квартплат не окупить. Их и не повышали.Так ведь и жить здесь теперь любят!
 Знакомые ещё по коллоквиуму архитектор-реставратор Винфрид Бренне и редактором «Строительной сети» Бенедикт Хотце, вместе с председательствующим сегодня над фондом «Посёлков всемирного наследия» Гансом-Юргеном Германном, приветствовали во «Дворе акаций» Ларису Николаевну Копцеву (Служба охраны памятников), Наталью Куницкую (Петербургский университет), Анну Мамаеву (администрация Черняховска), Алексея Оглезнева (фонд «Дом-замок», «инстерГОД»), Ольгу Сидоренко (ТСЖ «Пёстрый ряд») и Дмитрия Сухина («инстерГОД»), провели по посёлку и рассказали о работах в нём.
Знакомые ещё по коллоквиуму архитектор-реставратор Винфрид Бренне и редактором «Строительной сети» Бенедикт Хотце, вместе с председательствующим сегодня над фондом «Посёлков всемирного наследия» Гансом-Юргеном Германном, приветствовали во «Дворе акаций» Ларису Николаевну Копцеву (Служба охраны памятников), Наталью Куницкую (Петербургский университет), Анну Мамаеву (администрация Черняховска), Алексея Оглезнева (фонд «Дом-замок», «инстерГОД»), Ольгу Сидоренко (ТСЖ «Пёстрый ряд») и Дмитрия Сухина («инстерГОД»), провели по посёлку и рассказали о работах в нём.
 Одновременно с санацией домов менялись, где нужно, и подводящие коммуникации (под улицей), но в большей части они оказались в порядке. Тогда же воссоздавалось и обустройство улиц. Парковка в палисадниках, весьма волновавшая собравшихся, здесь воспрещена, так как охраняется не только архитектурный, но и садовый ансамбль, и бывшие курятники в нём. Спасает возникший в минувшие десятилетия на подъезде гаражный кооператив: Товарищество предполагает когда-нибудь построить там информационный павильон, пока же дозволяет гаражам сохраняться как прежде.
Одновременно с санацией домов менялись, где нужно, и подводящие коммуникации (под улицей), но в большей части они оказались в порядке. Тогда же воссоздавалось и обустройство улиц. Парковка в палисадниках, весьма волновавшая собравшихся, здесь воспрещена, так как охраняется не только архитектурный, но и садовый ансамбль, и бывшие курятники в нём. Спасает возникший в минувшие десятилетия на подъезде гаражный кооператив: Товарищество предполагает когда-нибудь построить там информационный павильон, пока же дозволяет гаражам сохраняться как прежде. Есть на территории посёлка и новостройки, вернее, перестройки: конторское здание на границе жилмассива Товариществу пришлось спешно выкупить и перестроить под жильё и врачебные практики, когда управление городского имущества решило было превратить его в общежитие для перемещённых лиц. Диссонанс? — зато теперь у комитета жителей появился зал для собраний. Здесь делегацию встретил председатель комитета, Макс Разокат. Как и следовало ожидать, этот уроженец «Коробки красок» по происхождению оказался — пилькалленцем, и был немедленно приглашён на историческую родину.
Есть на территории посёлка и новостройки, вернее, перестройки: конторское здание на границе жилмассива Товариществу пришлось спешно выкупить и перестроить под жильё и врачебные практики, когда управление городского имущества решило было превратить его в общежитие для перемещённых лиц. Диссонанс? — зато теперь у комитета жителей появился зал для собраний. Здесь делегацию встретил председатель комитета, Макс Разокат. Как и следовало ожидать, этот уроженец «Коробки красок» по происхождению оказался — пилькалленцем, и был немедленно приглашён на историческую родину.
 В последних лучах заходящего солнца удалось посетить ещё один посёлок, «Подкову», построенную Бруно Таутом и Мартином Вагнером в 1925—1933 годах.Десятилетие, отделяющее её от «Коробки красок», отчётливо прочитывается на фасадах, и общая для обох посёлков цветность здесь гораздо масштабнее. Больше и сам комплекс: 600 квартир и 472 односемейных дома, но аналоги «Пёстрому ряду» видны и здесь: так, лестничные клетки ул.Гагарина и ул.Ловизы Рейтер схожи больше, чем парой деталей.В последние годы посёлок распродаётся жильцам, усложняя работу охраны памятников: раньше их партнёром было единое жилищное управление, теперь — сотни единоличников. На помощь приходят «Планы по уходу за памятниками» и сетевая база данных типовых согласованных решений, ныне создающаяся за счёт средств, принесённых посёлку Всемирным наследием ЮНЕСКО.
В последних лучах заходящего солнца удалось посетить ещё один посёлок, «Подкову», построенную Бруно Таутом и Мартином Вагнером в 1925—1933 годах.Десятилетие, отделяющее её от «Коробки красок», отчётливо прочитывается на фасадах, и общая для обох посёлков цветность здесь гораздо масштабнее. Больше и сам комплекс: 600 квартир и 472 односемейных дома, но аналоги «Пёстрому ряду» видны и здесь: так, лестничные клетки ул.Гагарина и ул.Ловизы Рейтер схожи больше, чем парой деталей.В последние годы посёлок распродаётся жильцам, усложняя работу охраны памятников: раньше их партнёром было единое жилищное управление, теперь — сотни единоличников. На помощь приходят «Планы по уходу за памятниками» и сетевая база данных типовых согласованных решений, ныне создающаяся за счёт средств, принесённых посёлку Всемирным наследием ЮНЕСКО.
 При обходе неожиданно выяснилось, что база данных, вполне аналогичная берлинской, уже существует в калининградской Службе охраны памятников.Что же мы молчим об этом?!Оригинальная статья: К пёстрому знамени.
При обходе неожиданно выяснилось, что база данных, вполне аналогичная берлинской, уже существует в калининградской Службе охраны памятников.Что же мы молчим об этом?!Оригинальная статья: К пёстрому знамени.

